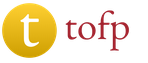Моэм бремя. Сомерсет моэм - бремя страстей человеческих
3.063 Уильям Сомерсет Моэм, «Бремя страстей человеческих»
Уильям Сомерсет Моэм
(1974-1965)
Английский писатель, по популярности не уступающий Ч. Диккенсу, неутомимый путешественник, Уильям Сомерсет Моэм (1974-1965) известен как автор 23 пьес («Леди Фредерик», «Верная жена», «Круг», «Наши лучшие» и др.), 21 романа («Луна и грош», «Пироги и пиво», «Театр» и др.), 7 сборников рассказов, среди которых много хрестоматийных шедевров («Дождь», «Непокоренная», «На окраине империи», «Заводь», «Санаторий», «Записка» и др.), биографической книги «Подводя итоги», многих путевых очерков и эссе, по преимуществу на литературные темы («Переменчивое настроение», «Великие писатели и их романы» и др.).
Высшим достижением писателя стал его «роман воспитания» «Of Human Bondage» - «Бремя страстей человеческих» (1915).
«Бремя страстей человеческих»
(1915)
Критики единодушно отмечали, что по художественной манере Моэм реалист до мозга костей, обладающий «выразительным моэмовским стилем», который невозможно спутать больше ни с каким другим. В своей прозе писатель стремился к безукоризненному изложению фабулы, к правдивости и простоте; а еще был уверен, «чем более интеллектуальную занимательность предлагает роман, тем он лучше». При этом особое внимание Моэм обращал на нравственность текста.
«Бремя страстей человеческих» - во многом автобиографическое произведение. Правда, писатель уверял, что это «роман, а не автобиография: хотя в нем есть много автобиографических деталей, вымышленных гораздо больше».
Так ли это - одному Моэму знать, но его герой во многом повторил путь автора.
Осиротевший в десять лет и отданный на попечение равнодушному к нему дяде, будущий писатель испытал страшное одиночество, усугубленное врожденным заиканием. Эти детские переживания Моэм бережно перенес в свой роман, и они стали лучшими страницами в мировой романистике, посвященными одиночеству ребенка.
Поступив в медицинскую школу при лондонской больнице, Моэм за три года углубленной практики в больничных палатах постиг не только причины болезней, но и причины разлада в человеческой душе. Телесные недуги он научился лечить врачебными способами, а духовные, свои и чужие, - литературой.
«Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача», - признался позднее Моэм, подтвердив это предельной искренностью, с которой он раскрыл в своем романе драму души.
«Бремя страстей человеческих» - не просто название, это сквозная тема, проходящая через все творчество Моэма.
Главный герой книги - Филип Кэри - мучительно ищет свое призвание и смысл жизни. Он нашел их, утратив многие свои юношеские иллюзии. В девять лет (действие начинается в 1885 г.) осиротевшего Филипа без особого восторга взял на воспитание его дядя-священник, проживавший в Блэкстебле.
Над хромым от рождения подростком безжалостно издевались его одноклассники. Страдая от одиночества, он находил утешение лишь среди книг. После окончания королевской школы Кэри поступил в университет в Гейдельберге (Германия), сдружился с соотечественником Хэйуордом, позером и идеалистом, которого хлебом не корми - дай поболтать о религии и литературе.
Эти азартные споры не могли не оставить следа в душе юноши, религиозность которого подвергалась непрерывному испытанию, и ничего удивительного, что Филип вполне с тенденцией времени разуверился в Боге и уверовал только в собственные силы.
После курса обучения Филип вернулся в Англию и по настоянию дяди стал обучаться в Лондоне профессии присяжного бухгалтера. С трудом выдержав год, он с радостью откликнулся на зов Хэйуорда и покатил в Париж, где стал вести богемный образ жизни, поступил в художественную студию «Амитрино», занялся живописью.
Юноше «покровительствовала» невзрачная и бесталанная Фанни, влюбленная в него. Кэри проигнорировал ее чувства, и девушка покончила с собой. Это внесло в потрясенную душу молодого человека чувство вины и сомнения в своих способностях к живописи. Учитель не стал разуверять начинающего художника, более того, посоветовал ему вообще бросить занятия живописью.
Филип покинул Париж и поступил в институт при больнице св. Луки в Лондоне. В кафе студент познакомился с официанткой по имени Милдред, особой глупой и вульгарной. Девица была хоть и дурна, но с гонором, и когда Кэри, влюбившись в нее, готов уже был жениться, она отказала ему, сообщив глубоко уязвленному поклоннику, что выходит замуж за другого.
Молодость взяла свое, новая симпатия - Нора только-только исцелила душевные раны Филипа, как вновь появилась Милдред. Банальная история: барышня забеременела, а ее ухажер оказался женатым. Кэри, оставив Нору, вновь прилепился к Милдред. Та вскоре родила девочку, тут же отдала малышку на воспитание, а сама спуталась с приятелем Филипа - Гриффитсом. Тот, впрочем, быстро расстался с ней. Милдред покатилась по наклонной и стала проституткой.
Филип, оскорбленный в лучших своих чувствах, уверовал в фатализм; от мрачных мыслей спасала учеба да работа ассистентом в амбулатории. Сблизившись с одним из своих пациентов, Ательни, Кэри стал бывать у него в гостях и привязался к нему и его семье.
Однако Милдред не думала оставлять молодого человека в покое. Из жалости, не испытывая более к прежней любви никаких чувств, Кэри приютил девицу с ее дочерью у себя. Он предложил Милдред место прислуги, думая тем самым увести ее с порочного пути, но женщина вовсе не желала этого. Безуспешно попытавшись соблазнить молодого человека, Милдред в гневе покинула дом, захватив дочку.
Вздумав играть на бирже, Кэри потерял все свои сбережения, вынужден был бросить мединститут и съехать с квартиры. Какое-то время он голодал, ночевал на улице, пока не устроился на работу в мануфактурный магазин. Там его застала весть о смерти Хэйуорда, а также письмо от заболевшей Милдред.
Навестив подругу, Филип с болью узнал, что ее дочь умерла, а сама женщина, вернувшись к занятиям проституцией, заразилась сифилисом. Это переполнило чашу терпения Кэри и поставило точку в романтической поре его жизни.
Получив наследство после смерти дяди, Филип вернулся в институт, окончил его и устроился на работу ассистентом к успешному доктору. Юность закончилась, а с ней и пора терзаний - Кэри женился на славной дочери Ательни, Салли, без страстной любви, но с добрыми чувствами. Он даже примирился со своей хромой ногой.
Необычайная ясность и простота романа, тонкая самоирония автора привлекли миллионы читателей во всем мире, а вот для интеллигентской элиты они стали, что кость в горле. Но Моэм твердо стоял на своих эстетических позициях: «Я отказываюсь верить, что красота - это достояние единиц, и склонен думать, что искусство, имеющее смысл только для людей, прошедших специальную подготовку, столь же незначительно, как те единицы, которым оно что-то говорит. Подлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты - это просто игрушка».
Да и что нам элита? Т. Драйзер, например, восхищенный романом, назвал Моэма «великим художником», а книгу - «творением гения», сравнив ее с бетховенской симфонией, а Т. Вулф отнес «Бремя страстей человеческих» к лучшим романам нашего времени, отметив при этом, что «книга эта родилась прямо из нутра, из глубин личного опыта».
В 1960-х гг. Моэм существенно сократил роман. В русском переводе он получил и сокращенное название «Бремя страстей».
«Бремя страстей человеческих» на русский язык перевели Е. Голышева и Б. Изаков.
Роман был трижды экранизирован - в 1934, 1946 и 1964 гг.
W. Somerset Maugham
Of Human Bondage
Печатается с разрешения The Royal Literary Fund и литературных агентств AP Watt Limited и The Van Lear Agency LLC.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© The Royal Literary Fund, 1915
© Перевод. Е. Голышева, наследники, 2011
© Перевод. Б. Изаков, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Глава 1
День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный – вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив – оштукатуренный, с портиком – и подошла к детской кроватке.
– Вставай, Фи?лип, – сказала она.
Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.
– Тебя зовет мама.
Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.
– Тебе хочется спать, детка? – спросила она.
Голос у нее был такой слабый, что, казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.
– Дайте ему побыть со мной хоть немножко, – простонала она.
Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге. Она заплакала.
– Что с вами? – спросил врач. – Вы устали.
Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.
– Дайте его мне.
Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.
– Положите его обратно в постельку.
– Сейчас.
Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.
– Бедняжка! Что с ним теперь будет!
Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И, хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.
– Мальчик или девочка? – шепотом спросила она у сиделки.
– Тоже мальчик.
Женщина ничего не сказала.
В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.
– Филип так и не проснулся, – сказала она.
Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.
– Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, – сказал он. – Зайду после завтрака.
– Я вас провожу, – предложила сиделка.
Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.
– Вы послали за деверем миссис Кэри?
– Как вы думаете, когда он приедет?
– Не знаю, я жду телеграмму.
– А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?
– Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.
– А кто она такая?
– Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?
Доктор покачал головой.
Глава 2
Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших пуфа. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.
– Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.
– Ку-ку, Эмма! – сказал он.
Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.
– Мы домой поедем? – спросил он.
– Да, я пришла за тобой.
– У тебя новое платье.
Шел 1885 год, и женщины подкладывали под юбки турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.
– Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? – не выдержала она наконец.
– Я позабыл. А как поживает мама?
Теперь уже она могла ответить:
– Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.
– Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.
Филип ничего не понимал.
– Почему?
– Твоя мама на небе.
Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма – высокая костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица – была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.
– Тебя дожидается дядя Уильям, – сказала она. – Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.
– Я не хочу с ней прощаться, – ответил он, почему-то стыдясь своих слез.
– Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.
Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филип в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал – мальчику было всего девять лет, – что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.
– Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин.
– Вот молодец, сходи, – похвалила его Эмма.
– Ты сперва им скажи, что я сейчас приду.
Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит:
– Филип хочет с вами проститься.
Разговор сразу смолк, и Филип, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашеными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание; Филип слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филипу дамы; они с любопытством разглядывали мальчика.
– Бедное мое дитя, – произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филипу объятия.
Она заплакала. Филип понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить.
– Мне надо домой, – прервал наконец молчание мальчик.
Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филип подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он причина такого переполоха; он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и сказал, что Эмма, наверно, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты. Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, и он остался ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриетты Уоткин:
– Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла.
– Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта! – сказала сестра. – Я так и знала, что ты вконец расстроишься.
В беседу вмешалась одна из незнакомых дам:
– Бедный малыш! Остался круглым сиротой – вот ужас! Он, кажется, еще и хромой?
– Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала!
Пришла Эмма. Они сели на извозчика, и Эмма сказала кучеру, куда ехать.
Глава 3
Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Кэри – он стоял на унылой, чинной улице между Ноттинг-Хилл-гейт и Хай-стрит в Кенсингтоне, – Эмма повела Филипа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, лежал в картонной коробке на столе в прихожей.
– Вот и Филип, – сказала Эмма.
Мистер Кэри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал набок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Кэри, наверно, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик.
– Ну, Филип, ты теперь будешь жить со мной, – сказал мистер Кэри. – Ты рад?
Два года назад, когда Филип перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде-священнику, но в памяти у него сохранились только чердак и большой сад; дядю и тетю он не запомнил.
– Мы теперь с тетей Луизой будем тебе вместо отца и матери.
Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил.
– Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение.
Мистеру Кэри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят, с женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было; мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась.
– Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл, – сказал он.
– И Эмму тоже?
Ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала.
– Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться, – сказал мистер Кэри.
– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной.
Филип заплакал, и няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Кэри беспомощно глядел на них обоих.
– Попрошу вас оставить нас с Филипом на минутку одних.
– Пожалуйста, сэр.
Филип цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Кэри посадил мальчика на колени и обнял.
– Не плачь, – сказал он. – Ты уже большой – стыдно, чтобы за тобой ходила няня. Скоро все равно придется отправить тебя в школу.
– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной! – твердил ребенок.
– Это стоит много денег. А твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое пенни.
Накануне мистер Кэри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филипа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось, должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению, выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутен-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Кэри, слабая здоровьем и беременная, совсем потеряв голову, сдала дом за первую предложенную ей цену. Свою мебель она отправила на склад, а для того чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была неспособна сократить расходы в соответствии со своим новым положением. То немногое, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филипу, и он продолжал горько рыдать.
– Пойди лучше к Эмме, – сказал мистер Кэри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка.
Филип молча слез с дядиных колен, но мистер Кэри его удержал.
– Нам надо завтра ехать, в субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. И, если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано.
Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Кэри не привык трудиться; он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка счетов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Кэри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег! Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил.
А Филип подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его, почти как родного сына – Эмму наняли, когда ему не было еще и месяца, – утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет; рассказывала ему о тех местах, куда он едет, и о своем доме в Девоншире – отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Эксетер, у них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась… У Филипа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол – дел было еще много, – и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки; скоро он уже весело играл.
Но потом ему надоело играть одному, и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филип вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, чт? ему лучше взять.
– Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится.
– Там дядя Уильям.
– Ну и что же? Вещи-то ведь твои.
Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Кэри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филипу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и чт? принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы: мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филип снова понуро поднялся наверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилось; однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачной. На туалете лежали щетка миссис Кэри и ручное зеркальце, а на подносике – головные шпильки. На каминной доске стояли фотографии отца Филипа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев – и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была постелена, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка.
Филип открыл большой гардероб, битком набитый платьями, влез в него, обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филип стал выдвигать ящики с ее вещами; белье было переложено мешочками с сухой лавандой, запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, и ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чаю. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала.
Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филип вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.
Глава 4
Филип плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекло, и, когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в шестидесяти милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Кэри и Филип отправились домой пешком; идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филип вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладинами и свободно ходили на петлях в обе стороны; на них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости; обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях – когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход – для садовника, нищих и бродяг. Дом, довольно просторный, из желтого кирпича, с красной крышей, был построен лет двадцать пять назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме.
Миссис Кэри знала, каким поездом они приедут, и дожидалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог.
– Вон тетя Луиза, – сказал мистер Кэри. – Беги поцелуй ее.
Филип неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. Седые волосы были завиты колечками по моде ее юности. На черном платье было одно-единственное украшение – золотая цепочка с крестиком. Держалась она застенчиво, и голос у нее был слабый.
– Ты шел пешком, Уильям? – спросила она с укором, поцеловав мужа.
– Я не подумал, что для него это далеко, – ответил тот, взглянув на племянника.
– Тебе нетрудно было идти, Филип? – спросила миссис Кэри мальчика.
– Нет. Я люблю гулять.
Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками, на которых чередовались изображения греческого креста и агнца божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны с каким-то особенным запахом; дому священника повезло: когда в церкви делали новые скамьи, леса хватило и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов.
– Я велела протопить печь, боялась, что вы в дороге замерзнете, – сказала миссис Кэри.
Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Кэри, печь не топили. Уголь стоил дорого, да и прислуга, Мэри-Энн, ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Кэри больше сидели в столовой и обходились одной печью; но и летом привычка брала свое: они все время тоже проводили в столовой; гостиной пользовался один мистер Кэри, да и то по воскресеньям, когда ложился соснуть после обеда. Зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь.
Тетя Луиза отвела Филипа наверх, в крошечную спаленку; окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филип припомнил теперь и его: ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему.
– Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький, – сказала миссис Кэри. – А тебе не страшно будет спать одному?
В прошлый раз, когда Филип жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Кэри не много было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством.
– Ты умеешь мыть руки, не то дай я тебе их вымою…
– Я сам умею мыться, – сказал он гордо.
– Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки, – заявила миссис Кэри.
Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филип приедет жить в Блэкстебл, миссис Кэри много думала о том, как ей получше обращаться с ребенком; ей хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Кэри от души надеялась, что Филип не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Кэри оставила Филипа одного, но минуту спустя вернулась – постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай.
В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешаны тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен – солидный буфет красного дерева с зеркалом, в углу – фисгармония, а по бокам камина – два кресла, обитые тисненой кожей, с наколотыми на спинки салфеточками; одно из них, с ручками, называлось «супругом», другое, без ручек, – «супругой». Миссис Кэри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно: дел всегда много, а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется.
Когда Филип вошел, мистер Кэри разжигал огонь в камине; он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, до блеска отполированная и совсем новая – ее звали «священником»; другая, поменьше и множество раз побывавшая в огне, звалась «помощником священника».
Филип никак не мог забыть рассказ мисс Уилкинсон. Правда, она оборвала его на половине, но то, чего она не досказала, было и так ясно, и Филип почувствовал, что он шокирован. Это могла себе позволить замужняя женщина – Филип прочел немало французских романов и знал, что во Франции такое поведение казалось делом обычным, – но мисс Уилкинсон была не замужем, англичанка и к тому же дочь священника. Потом его осенила мысль, что молодой художник – по-видимому, не первый и не последний ее любовник, и у него даже дух захватило; никогда еще он не пробовал взглянуть на мисс Уилкинсон с этой стороны; он и не представлял себе, что с ней можно завести роман. По своей наивности он так же мало сомневался в правдоподобии ее рассказа, как и во всем, что прочел в книгах; он злился, что с ним никогда не случалось таких удивительных приключений. Стыдно было подумать, что, если мисс Уилкинсон снова потребует отчета о его похождениях в Гейдельберге, ему нечего будет ей рассказать. Правда, Филип обладал некоторым воображением, но все же он не надеялся убедить ее, будто погряз в пороках: женщины обладали такой дьявольской интуицией – он читал и об этом! – и она с легкостью обнаружит, что он привирает. Он краснел как рак при мысли о том, что она станет посмеиваться над ним исподтишка.
Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка надтреснутым голосом романсы Массне, Бенжамена Годара и Огюсты Ольмес; Филип их слышал впервые; вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав, что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала, застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка. В ее преподавании были система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филипа петь гаммы и вокализы.
Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться, голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филипу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей – учительницей. Новое обличье мисс Уилкинсон не совпадало с тем образом, который создали ее рассказы. Он стал приглядываться к ней внимательнее. Она куда больше нравилась ему по вечерам. Утром на ее лице отчетливо видны были морщины, да и кожа на шее казалась дряблой. Ему бы хотелось, чтобы она не выставляла свою шею напоказ, но погода стояла жаркая и она носила блузки с большим вырезом. Ей нравилось одеваться в белые платья, но по утрам этот цвет был ей не к лицу. Вечером, надев нарядное платье и гранатовое ожерелье на шею, она казалась почти хорошенькой, кружева на груди и у локтя придавали ей мягкую женственность, а запах духов был волнующим и напоминал о дальних странах (в Блэкстебле никто не употреблял ничего, кроме одеколона, да и то лишь по воскресеньям или разве еще от головной боли). Мисс Уилкинсон тогда и в самом деле выглядела совсем молодой.
Филипа очень занимал ее возраст. Он складывал двадцать и семнадцать, и никак не мог удовлетвориться итогом. Не раз он допрашивал тетю Луизу, почему она думает, что мисс Уилкинсон уже тридцать семь лет: на вид ей не дашь больше тридцати; к тому же иностранки, как известно, стареют быстрее англичанок, а мисс Уилкинсон так долго жила за границей, что может сойти за иностранку. Лично он не дал бы ей больше двадцати шести.
– Нет, ей куда больше, – отвечала тетя Луиза.
Филип не верил своим дяде и тете. Им помнилось отчетливо лишь то, что мисс Уилкинсон носила косу, когда они жили в Линкольншире. Но ей могло быть тогда лет двенадцать: дело было так давно, а на память священника вообще нельзя было полагаться. Они утверждают, что с тех пор прошло двадцать лет, но люди любят округлять; может быть, прошло всего лет восемнадцать, а то и семнадцать. Семнадцать плюс двенадцать – всего-навсего двадцать девять, а это, черт возьми, еще не старость. Клеопатре было сорок восемь, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.
Лето было чудесное. Изо дня в день стояла жаркая, безоблачная погода, но зной смягчался близостью моря; от него шла бодрящая свежесть, и августовское солнце совсем не утомляло. В саду был бассейн, в нем журчал фонтан и росли лилии, а у самой поверхности воды грелись на солнце золотые рыбки. После обеда Филип и мисс Уилкинсон, захватив из дому пледы и подушки, устраивались на лужайке в тени высокой изгороди из роз. Там они читали, болтали и курили – священник не выносил табачного дыма; он считал курение отвратительной привычкой и часто повторял к месту и не к месту, что стыдно быть рабом своих привычек. При этом он забывал, что сам был рабом своего пристрастия к чаю.
Однажды мисс Уилкинсон дала Филипу «La vie de Bohème». Она нашла книгу случайно, роясь в шкафу священника: мистер Кэри купил ее у букиниста заодно с другими книгами и целых десять лет не открывал.
Филип принялся читать увлекательный, плохо написанный и нелепый шедевр Мюрже и сразу почувствовал его обаяние. Его покорила пестрая картина беззаботного недоедания, живописной нужды, не слишком целомудренной, но такой романтической любви и трогательная смесь высоких чувств и обыденного. Родольф и Мими, Мюзетта и Шонар! Одетые в причудливые костюмы времен Луи-Филиппа, они бродят по узким улицам Латинского квартала, находя убежище то в одной, то в другой мансарде, улыбаясь и проливая слезы, беспечные и безрассудные. Кто перед ними устоит? Лишь перечтя эту книгу в зрелости, вы увидите, как грубы их развлечения и пошлы их души, тогда вы почувствуете, как никчемен весь этот веселый хоровод, поймете, до чего ничтожны они как художники и как люди.
Филип бредил этой книгой.
– Разве вы не хотели бы поселиться в Париже вместо Лондона? – спросила мисс Уилкинсон, посмеиваясь над его восхищением.
– Сейчас уже поздно, даже если бы я и хотел, – ответил он.
Целые две недели после того, как он вернулся из Германии, они с дядей обсуждали его будущее. Он окончательно отказался поступать в Оксфорд, и сейчас, когда исчезли все виды на получение стипендии, даже мистер Кэри пришел к выводу, что Филипу это не по средствам. Ему досталось от родителей всего две тысячи фунтов, и, хотя они были помещены в закладные, приносившие пять процентов в год, он не мог свести концы с концами, не трогая основного капитала. Теперь его состояние немного уменьшилось. Было бы глупо целых три года тратить по двести фунтов – университетская жизнь в Оксфорде обошлась бы ему не дешевле – и в конце концов по-прежнему не иметь доходной профессии. Он горел нетерпением отправиться в Лондон. Миссис Кэри считала, что для джентльмена были возможны только четыре профессии: армия, флот, суд и церковь. К этому списку она соглашалась добавить медицину, поскольку ее зять был врачом, но не могла забыть, что в дни ее молодости никто не считал врача джентльменом. Первые две профессии для Филипа были закрыты, а священником он сам наотрез отказывался стать. Оставалась профессия юриста. Местный врач заметил, что многие джентльмены идут теперь в инженеры, но миссис Кэри решительно воспротивилась.
– Мне не хотелось бы, чтобы Филип стал ремесленником, – сказала она.
– Нет, он должен получить настоящую профессию, – откликнулся и священник.
– Почему бы ему не сделаться врачом, как его отец?
– Ни за что, – сказал Филип.
Миссис Кэри этот отказ не огорчил. Адвокатура тоже как будто отпадала, поскольку он не собирался поступать в Оксфорд, а семейство Кэри было убеждено, что для успеха в этой области требовался диплом. В конце концов возникла мысль отдать его в учение к юристу. Было послано письмо Альберту Никсону – поверенному, который вел дела их семьи; вместе с блэкстеблским священником он был душеприказчиком покойного Генри Кэри; в письме спрашивали, не возьмет ли он Филипа в ученье. Через несколько дней пришел ответ, что у мистера Никсона нет вакансий и он решительно возражает против всей затеи в целом: юристов и так слишком много, и без капитала или связей в этой профессии невозможно пробиться выше должности старшего клерка; Филипу имеет смысл стать присяжным бухгалтером. Ни священник, ни его супруга понятия не имели, что это такое, да и Филип никогда не слышал о присяжных бухгалтерах. Но в следующем письме их поверенный объяснил, что рост современной торговли и промышленности и развитие акционерных обществ привели к созданию многочисленных бухгалтерских фирм для проверки расчетных книг и наведения в финансовых делах клиентов порядка, отсутствовавшего в старые времена. Несколько лет назад бухгалтеры получили королевские привилегии, и с тех пор с каждым годом эта профессия становилась все более уважаемой, процветающей и влиятельной. В бухгалтерской фирме, которая вот уже тридцать лет вела финансовые дела Альберта Никсона, как раз освободилась вакансия ученика, и ее готовы были предоставить Филипу за вознаграждение в триста фунтов стерлингов. Половина этой суммы возвращалась ему в течение пятилетнего обучения в виде жалованья. Будущее было не бог весть каким блестящим, но Филип сознавал, что ему надо на что-то решиться, а страстное желание жить в Лондоне побеждало все его сомнения. Священник запросил мистера Никсона, подходящая ли это профессия для джентльмена; мистер Никсон ответил, что после получения привилегий в бухгалтеры пошли люди, учившиеся в закрытых учебных заведениях и даже в университете; больше того, если работа Филипу не понравится и через год ему захочется уйти, Герберт Картер – так звали владельца бухгалтерской фирмы – готов вернуть половину денег, внесенных за учение. Это решило вопрос; условились, что Филип приступит к работе пятнадцатого сентября.
– У меня впереди целый месяц, – сказал Филип.
– И затем вы обретете свободу, а я вернусь к своему рабству, – заметила мисс Уилкинсон.
У нее был полуторамесячный отпуск, и она должна была уехать из Блэкстебла за день или за два до отъезда Филипа.
– Встретимся мы с вами когда-нибудь еще или нет? – добавила она.
– А почему бы нам не встретиться?
– Ах, не говорите об этом так прозаично. Никогда еще не видела более бесчувственного человека.
Филип покраснел: он боялся показаться мисс Уилкинсон молокососом. В конце концов она женщина молодая, иногда даже хорошенькая, а ему уже скоро двадцать лет; глупо только и делать, что беседовать об искусстве и литературе. Ему надо за ней поухаживать. Они столько говорили о любви. Она рассказала ему о молодом художнике с улицы Бреда и о портретисте, в семье которого так долго жила в Париже: этот попросил ее позировать, но с первого же сеанса стал так назойливо к ней приставать, что ей пришлось придумывать всякие отговорки, чтобы не оставаться с ним наедине. Мисс Уилкинсон, по-видимому, привыкла к вниманию мужчин. Сейчас она выглядела очень мило в соломенной шляпке с большими полями: день был жаркий – самый жаркий за все лето, – и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он вспомнил фрейлейн Цецилию и герра Суна. Филипу никогда не нравилась Цецилия как женщина – уж очень она была некрасива; но задним числом эта история казалась очень романтичной. Теперь вот и ему подвернулся случай завести интрижку. Мисс Уилкинсон была почти француженкой, и это придавало флирту с ней особую пикантность. Думая о мисс Уилкинсон по ночам в постели или же в саду над книгой, Филип чувствовал какое-то волнение, но стоило мисс Уилкинсон появиться, и роман с ней уже не казался ему таким заманчивым.
Во всяком случае, после того, что она ему рассказывала, ее вряд ли удивит, если он станет за ней ухаживать. Он подозревал, что она считает его просто чудаком и не понимает, почему он не делает никаких попыток; быть может, ему только кажется, но раза два за последние дни он прочел в ее глазах презрение.
– О чем вы задумались? – с улыбкой спросила мисс Уилкинсон.
– Не скажу, – ответил он.
Он думал, что ему надо тут же ее поцеловать, сразу! Интересно, хочет она этого или нет; и все же он не представлял себе, как можно взять да и поцеловать женщину – просто так, без всяких предисловий. Она еще подумает, что он взбесился, даст ему пощечину или пожалуется дяде. Интересно, как начинал ухаживать за фрейлейн Цецилией герр Сун. Вот будет номер, если она скажет дяде; он знал дядюшку и не сомневался, что тот сразу же поделится новостью с доктором и с Джозией Грейвсом – ну и болваном же будет тогда выглядеть Филип! Тетя Луиза не переставала твердить, что мисс Уилкинсон не меньше тридцати семи лет; он дрожал при мысли о том, что станет посмешищем всей округи, – чего доброго, еще скажут, будто она ему в матери годится!
– А все-таки о чем вы задумались? – улыбнулась мисс Уилкинсон.
– О вас, – храбро ответил он.
Во всяком случае, эти слова его ни к чему не обязывали.
– Что же вы обо мне думали?
– Вот и не скажу.
– Ах, негодник! – воскликнула мисс Уилкинсон.
Вот всегда так! Стоит ему собраться с духом, как она произносит слово, сразу напоминающее ему, что она – гувернантка. Когда он фальшиво поет гаммы, она тоже, шутя, зовет его негодником.
На этот раз он даже надулся.
– Прошу вас, – произнес он, – не обращайтесь со мной, как с ребенком.
– Вы сердитесь?
– Я вовсе не хотела вас обидеть.
Она протянула руку, и он ее пожал. Несколько раз за последнее время, когда они прощались перед сном, ему чудилось, что она слегка пожимает его руку; сейчас в этом не могло быть сомнений.
Он не знал, как быть дальше. Наконец-то ему подвернулся удобный случай; он будет последним дураком, если не воспользуется им; но все было не так, как он себе представлял, – проще, прозаичнее. В книгах он часто встречал описания любовных сцен, в себе же он не ощущал ничего похожего на половодье чувств, изображаемое авторами романов; страсть не кружила ему голову, да и мисс Уилкинсон не была его идеалом; он часто представлял себе огромные синие глаза и белоснежную кожу неведомой красавицы; воображал, как погружает лицо в густые, волнистые пряди ее каштановых волос. Но разве можно было погрузить лицо в волосы мисс Уилкинсон – они всегда казались ему какими-то липкими. И все же хорошо было бы завести интрижку; он уже заранее ощущал законную гордость, которую принесет ему эта победа. Он был обязан ее соблазнить. И он решил непременно поцеловать мисс Уилкинсон, правда, не сейчас, а вечером: в темноте будет легче; ну а дальше все пойдет как по маслу. Решено: он ее сегодня же поцелует. Филип дал себе клятву, что он ее поцелует.
Филип выработал план кампании. После ужина он предложил ей пройтись по саду. Мисс Уилкинсон согласилась, и они стали прогуливаться. Филип нервничал. Не известно почему, разговор никак не принимал нужного оборота; он решил раньше всего обнять ее за талию; но как это сделать, если она говорит о парусных состязаниях, назначенных на будущую неделю? Он коварно привел ее в самый темный уголок сада, но, когда они там очутились, мужество его покинуло. Потом они сели на скамейку, и стоило ему убедить себя, что настала решительная минута, как мисс Уилкинсон заявила, будто тут водятся уховертки, и они двинулись дальше. Они снова обошли весь сад, и Филип дал себе слово, что перейдет в атаку, прежде чем они дойдут до дальней скамейки, но возле дома их окликнула с порога миссис Кэри:
– Не лучше ли вам, молодые люди, вернуться? Ночью прохладно, вы можете простудиться.
– Может, и в самом деле лучше пойти домой? – сказал Филип. – Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились.
У него невольно вырвался вздох облегчения. Все равно сегодня ничего не выйдет. Но позже, в своей комнате, он страшно на себя обозлился. Ну и дурак! Он ничуть не сомневался, что мисс Уилкинсон ждала его поцелуя – зачем бы она пошла с ним в сад? Недаром она всегда повторяла, что только французы умеют ухаживать за женщинами. Филип читал французские романы. Будь он французом, он схватил бы ее в объятия, страстно объяснился в любви и впился губами в ее затылок. Непонятно, почему французы всегда целуют дам в затылок? Лично он не видел в затылках ничего привлекательного. Конечно, французам куда легче вести себя таким образом – один французский язык чего стоит! Филип никак не мог отделаться от ощущения, что на английском языке любовные признания звучат как-то нелепо. Сейчас он уже сожалел, что затеял осаду мисс Уилкинсон и ее добродетели; первые две недели они провели так весело, а теперь его гнетет вся эта история. Но он не намерен сдаваться, не то он потеряет к себе всякое уважение; Филип бесповоротно решил, что завтра вечером поцелует ее во что бы то ни стало.
Проснувшись на другое утро, он увидел, что идет дождь; первая его мысль была о том, что они не сумеют вечером пойти в сад. За завтраком он был в отличном настроении. Мисс Уилкинсон передала через Мэри-Энн, что у нее болит голова и она останется в постели. Она спустилась только к вечернему чаю – бледная, в премиленьком капоте; но к ужину совсем поправилась, и за столом было очень весело. После молитвы мисс Уилкинсон заявила, что сразу ляжет спать и, прощаясь, поцеловала миссис Кэри. Затем она повернулась к Филипу.
– Боже мой! – вскричала она. – Я чуть было не поцеловала и вас тоже.
– Почему же вы этого не сделали? – спросил он.
Она засмеялась и протянула ему руку. Он совершенно отчетливо почувствовал ее пожатие.
На следующий день в небе не было ни облачка, а сад после дождя был полон благоухания и прохлады. Филип пошел на пляж, а вернувшись домой после купания, пообедал за двоих. После обеда ожидали гостей, чтобы поиграть в теннис, и мисс Уилкинсон надела свое лучшее платье. Она в самом деле умела одеваться, и Филип не мог не заметить, как изящно она выглядела рядом с женой помощника священника и замужней дочерью врача. Она приколола две розы к корсажу и сидела в плетеном кресле возле корта, раскрыв красный зонтик, – ее лицо было очень выгодно освещено. Филип любил играть в теннис. Несмотря на хорошую подачу, ему приходилось играть у самой сетки, так как бегал он неуклюже; но там хромота не мешала ему, и он редко пропускал мяч. На этот раз он остался очень доволен тем, что выиграл все партии. Когда принесли чай, Филип, разгоряченный после игры, еще с трудом переводя дух, растянулся у ног мисс Уилкинсон.
– Вам идет спортивный костюм, – сказала она. – Вы сегодня очень мило выглядите.
Филип покраснел от удовольствия.
– Могу от души вернуть вам комплимент. Вы выглядите просто очаровательно.
Она улыбнулась и подарила его долгим взглядом.
После ужина Филип настоял на вечерней прогулке.
– Разве вы мало набегались за день? – спросила она.
– Ночью в саду так чудесно. Все небо в звездах.
Он был в превосходном настроении.
– Знаете, миссис Кэри бранила меня из-за вас, – сказала мисс Уилкинсон, когда они шли по огороду. – Она говорит, что мне не следует с вами флиртовать.
– А разве вы со мной флиртуете? Я и не заметил.
– Она пошутила.
– С вашей стороны было жестоко не поцеловать меня вчера вечером.
– Если бы вы только видели, как на меня взглянул ваш дядюшка!
– Только это вам и помешало?
– Я предпочитаю целоваться без свидетелей.
– Здесь никого нет.
Филип обнял ее за талию и поцеловал в губы. Она тихонько рассмеялась и не сделала попытки вырваться. Все получилось совершенно естественно. Филип был очень горд. Он сказал, что поцелует ее, и поцеловал. Это оказалось совсем просто – проще всего на свете. Жаль, что он не сделал этого раньше. Он поцеловал ее снова.
– Не надо, – сказала мисс Уилкинсон.
– Почему?
– Потому, что мне это нравится, – рассмеялась она.
1
День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный – вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив – оштукатуренный, с портиком – и подошла к детской кроватке.
– Вставай, Филип, – сказала она.
Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.
– Тебя зовет мама.
Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.
– Тебе хочется спать, детка? – спросила она.
Голос у нее был такой слабый, что, казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.
– Дайте ему побыть со мной хоть немножко, – простонала она.
Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге. Она заплакала.
– Что с вами? – спросил врач. – Вы устали.
Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.
– Дайте его мне.
Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.
– Положите его обратно в постельку.
– Сейчас.
Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.
– Бедняжка! Что с ним теперь будет!
Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И, хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.
– Мальчик или девочка? – шепотом спросила она у сиделки.
– Тоже мальчик.
Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.
– Филип так и не проснулся, – сказала она.
Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.
– Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, – сказал он. – Зайду после завтрака.
– Я вас провожу, – предложила сиделка.
Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.
– Вы послали за деверем миссис Кэри?
– Как вы думаете, когда он приедет?
– Не знаю, я жду телеграмму.
– А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?
– Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.
– А кто она такая?
– Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?
Доктор покачал головой.
2
Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших пуфа. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.
– Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.
– Ку-ку, Эмма! – сказал он.
Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.
– Мы домой поедем? – спросил он.
– Да, я пришла за тобой.
– У тебя новое платье.
Шел 1885 год, и женщины подкладывали под юбки турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.
– Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? – не выдержала она наконец.
– Я позабыл. А как поживает мама?
Теперь уже она могла ответить:
– Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.
– Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.
Филип ничего не понимал.
– Почему?
– Твоя мама на небе.
Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма
– высокая, костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица – была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.
– Тебя дожидается дядя Уильям, – сказала она. – Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.
– Я не хочу с ней прощаться, – ответил он, почему-то стыдясь своих слез.
– Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.
Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной раздались голоса. Филип в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал – мальчику было всего девять лет, – что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.